



Юрий Беликов
| |||
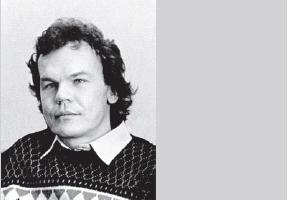 |
Беликов Юрий Александрович (р.1958), поэт, эссеист, журналист. Окончил филфак ПГУ, отделение журналистики ВКШ при ЦК ВЛКСМ. Работал в областной газете «Молодая гвардия», в редколлегии журнала «Юность», «Комсомольской правде», в настоящее время собкор газеты «Трибуна» (Москва). Автор книг стихов «Пульс птицы» (М, 1988), «Прости, Леонардо!» (Пермь, 1990), публикаций в журналах «Юность», «Знамя», «Огонек». Участник антологии «Самиздат века» (М-Минск, 1997), «Современная уральская поэзия» (Челябинск, 1996) и др.Член жюри «Илья-Премии» (Москва) и редколлегии альманаха «Илья». |
|
К своим учителям я отношу, во-первых, чусовского журналиста Вилория Глухова. Несколько лет назад он умер, но мы, с тех пор как повстречались, так до последнего и дружили. Это была дружба творческая, человеческая. А получилось всё как? Я начал писать стихи – классе, наверное, в девятом, и там, в Чусовом, газета заводская есть – «Металлург». Я пришел туда и познакомился с этим человеком. Он заметил мои стихи. Так состоялась первая публикация. Чем живут охотники? Разумом костра. Слушают, как, падая, охает листва… Я часто приходил к Вилорию Васильевичу домой, читал новые вещи. Мальчик, живущий в провинции... Хотя Чусовой – город, хранящий литературные традиции. Отсюда вышло много писателей: Астафьев, Курбатов, Голубков, Селянкин... Грин туда заезжал в начале века. Но, несмотря на это, традиции уже угасали. Тем, кто воспитывался в городках области, нужен был человек, который бы поддержал, искру Божью воздул, чтоб она не затухла. Таким был Вилорий Глухов. Вилорий – имя интересное... Потом он учил меня рыбалке, мы с ним часто ходили на Усьву, ловили щук. Там, кстати, и стихи читались. Для поэта ведь важно, особенно для того, кто начинает, слышать отклик постоянный. Ну а потом, когда я пришел в «Чусовской рабочий», откуда берет начало моя журналистская стезя, мы работали уже вместе – Глухов туда перешел из «Металлурга», и наша дружба уже перестала быть дружбой учителя и ученика, а – на равных. Это что касается чусовского периода. Затем я закончил десять классов, уехал в Пермь, дальше – встреча с Риммой Васильевной Коминой. Собственно, это я описал в книжке «Римма», вышедшей после ее кончины, в письме-эссе «Небо. До востребования». Я не поступил на дневное отделение (не хватило двух баллов), и меня надоумили: дескать, можно пойти к Коминой – это единственный человек на филфаке, который может понять и оценить. А поскольку я уже тогда чувствовал в себе поэтическую силу, то пошел к Коминой (на Комсомольский проспект, в Дом ученых – она там жила) и почти что с порога начал читать стихи. Римма Васильевна послушала, сняла телефонную трубку, сказала: «Пусть его зачислят на заочное. Это – наш человек!» Так я поступил на заочное отделение, а на следующий год, досдав разницу, перешел на дневное. Опять же, для совсем юного поэта оценка такого человека, как Комина, значила много. Она сразу увидела в моих стихах то, что, как мне кажется, постепенно выдавливалось из литературы... Когда-то Римма Васильевна написала статью, опубликованную в газете «Звезда», – «Жажду социальности!» Это был парафраз статьи Льва Аннинского «Жажду беллетризма!» в «Литературной газете». Так вот, Коминой, а она была «шестидесятницей», не хватало в поэзии и прозе тогдашнего времени именно этого комка, сгустка социальности. А в моих стихах, тогда совершенно открытых, по-хорошему лобовых, опять-таки в восприятии Риммы Васильевны, как раз и проглядывала, как я думаю, эта романтическая социальность...
А потом... Я не скажу, что мы сильно дружили со Славой в университете, это уже после университета случилось. А тогда – постепенно вокруг «Горьковца» сформировалась группа, которая затем получила название «Времири». Я помню, когда начал читать Хлебникова, слово «времири» меня поразило, и я понял, что наша группа должна называться именно так. Когда предложил ребятам это название, все согласились, потому что... Вот мы жили – время настоящее, а мы чувствовали, что оно поддельное, ненастоящее, нам хотелось настоящего времени. И поэтому название «Времири» как нельзя лучше выражало наши устремления. В эту группу входили Юра Асланьян, Толя Субботин, Марина Крашенинникова, Саша Попов, Миша Шаламов, Слава Запольских, был еще Леша Ширинкин (теперь он Иванов). Дрожащих во «Времирях», что называется, не состоял, они тогда дружили с Кальпиди, и у нас были «параллельные структуры», если пользоваться современным сленгом. Я помню, мы уже начали выступать, и не только в университете, а еще по каким-то аудиториям пермским, например в политехе, и афишу там повесили... В афише, если память мне не изменяет, значилось: вокальный ансамбль «Времири». И там, в этой афишке (вот это точно была моя идея), подобно тому как в ВИА есть бас-гитара, соло, ритм-гитара и т.д., можно было прочесть: «Бас-стихи, соло-стихи, ритм-стихи, ударные». «Ударными» был я, «басом» – Саша Попов, «ритм-стихи» – Леша Ширинкин, «соло» – Асланьян. Мы так и выходили, обозначая: «бас-стихи», «соло-стихи», «ударные»... Преобладали в этой группе, кроме меня, Юра Асланьян, Саша Попов, Толя Субботин и Леша Ширинкин. Остальные примыкали-отмыкали, на больших выступлениях присоединялись. Университет – это «студенческие весны». Мы на них выступали. Дело в том, что тогда «Времири» и «Горьковец» были почти одно целое. Можно сказать, что «Горьковец» в те годы (77–79-й) был газетой «Времирей». Мы все его делали, все были в редколлегии, я был его редактором, после Дрожащих. Ну и, поскольку в стенгазете филфака произошла смена поколений, «Горьковец» изменился. Это тогда заметили. Помню, Дрожащих, со свойственной ему ворчаще-раздражительной иронией, говорил, что «реальные какие-то появились фигуры», – он имел в виду зрительный, живописно- графический ряд. Это потом мы ушли в глубокую метафору, а тогда... Всё, что думали, – помещали на страницах «Горьковца». Даже было к нему приложение. Оно вышло единственный раз, в единственном, разумеется, экземпляре. Приложение называлось «Красная строка». Название дала Надежда Гашева, очевидно, по строке Решетова про путь поэта: «...и красной начинается строкой, и красной завершается строкою». Гашева тогда была руководителем творческого кружка при филфаке и, конечно, сыграла для нашего поэтического роста и самоопределения большую роль. Но творческий кружок под ее началом просуществовал не больше года, потому что в силу разных обстоятельств прикрылся – Гашеву попросили уйти. Это отдельная тема.
А Шеншин нас отстаивал – тихий Шеншин, потомок Фета, но он нас вместе с тем твердо отстаивал. К Владимиру Константиновичу я отношусь с уважением: часто у нас были долгие, человеческие разговоры с ним о поэзии, о жизни, обо всем. Он только добрых слов заслуживает. Шибанова же была проводником Веселухиной. А та возглавляла парторганизацию на факультете. Ну и, естественно, все наши романтические откровения становились достоянием факбюро. Я помню периоды, когда просто «Горьковец» снимали, закатывали в рулон и – несли Веселухиной. Или, например, сегодня мы прикнопили «Горьковец» в 8-м общежитии на стену, а завтра в нем уже зияли дыры. Я тогда написал: «…как вырезал аппендицит от боли бледной стенгазете». Мы же не камуфлировали, если нам не нравилось что-то, мы и говорили: «Нам это не нравится». Камуфлировать стали позднее. Но тогда ведь по любому глупому поводу всё изымалось. Например, у Славы Запольских, нынешнего фантаста, в «Горьковце» была новогодняя пьеска. Там действовали Снежинка-оптимист и Снежинка-пессимист. И в конце концов Снежинка-пессимист (а может, оптимист?) оказалась в урне – и вот это возмутило столпов факбюро: «почему у вас снежинка попадает в урну?» Я уже не говорю про вещи более жесткие, стихи какие-то, совершенно откровенные. Помню, я Ленина срифмовал с Ленноном. Это-то стихотворение из стенгазеты и вырезали... Как меня снимали с «Горьковца» – тоже любопытная история. Им (Веселухина, Шибанова, Власов) наши «художества» нравиться не могли. Но за факультетскими силами стояли еще силы – университетские партийцы. Ректор у нас был Живописцев – сам по себе нормальный человек, но за его репликой, брошенной одному из «времирей» – Толе Субботину (однажды он попал к ректору на прием): «Вы там трезвыми глазами посмотрите, что вы пишете!», маячил некий нечаянный интерес с чьей-то стороны. Ну, естественно, мы пили: вино и поэзия – это всегда сочетается... И бывало, что и на творческом кружке выпивали, портвейну, скажем, распространенное тогда было винишко. Так что... Вот это вольнодумство, вольница, которая царила в «Горьковце», и в творческом кружке, и на наших выступлениях, начали раздражать столпов университетского режима, хранителей партийных традиций. И однажды я попался на крючок. Мне исполнилось 18 лет, я должен был впервые проголосовать на выборах в депутаты Верховного Совета. Я уехал из Перми в Чусовой, ну и там, само собой, проголосовал, в школе какой-то был избирательный участок. А когда вернулся – меня вызывают на факбюро. Помню, там сидят: Веселухина, Власов, наверное – Шибанова (она как-то в памяти почти что стерлась). И сразу, особенно Веселухина (как сказал очень удачно Виталий Богомолов, Ксения Владимировна напоминала Н.К. Крупскую после смерти Ленина. Сидят, от них исходит дух: «Ты записался добровольцем?!»), спрашивают: «Вы не проголосовали – почему?» Я: «Как не проголосовал?» – «Да, но вы не взяли открепительного талона. Это непростительно. И в «Горьковце» вы непонятно что пишете. Будем принимать решение!» В общем, сняли меня с должности редактора. И решили поставить на эту должность Сашу Бабурина. Он был младше на курс или два. А потому так решили, что он был член КПСС. Но Саша оказался порядочным человеком, и мы, уже немножко осторожно, продолжали делать то, что делали раньше. Тут хочется сказать про Сашу Попова. Ему было 20 лет, когда он покончил с собой. Это был одаренный парень. Я сейчас по памяти попробую восстановить одно из его стихотворений: Листва звенела на асфальте, Катался куст, как апельсин. Казалось, открывал Вивальди Свой дребезжащий клавесин. То в хаосе, а то в узоре, То замирал, то отмирал Осенних пятен лепрозорий, И хрустко клавесин играл. Все думали: летит влюбленный, Когда с листвой меня несло. Все думали: летит влюбленный, А я им не был всем назло. Мгновение назад в аллее, Где ядовито клен желтел, Я разлюбил, но я приклеил Улыбку и, шутя, взлетел. Сквер по-осеннему стал жалок, Вивальди, кончив пьесу, встал. Двуствольный клен картечью галок Мне траурно салютовал. Потом, годами позднее, я прочел в книжке Кальпиди: «Воронами заряженные рощи просалютуют, залпами треща» [1]. Повторюсь: Саша был очень одаренным человеком. Рисовал. Он был художником «Горьковца», оформлял газету. Писал стихи. Ну и... не знаю... Видимо, оказался ранимее всех нас. Он ведь дважды вешался. Сначала веревка порвалась. Он – снова. Что это – слабость? Или – сила? Тогда это было тревожным событием на факультете. Я помню, Римма Васильевна пришла на похороны и Гашева Надежда Николаевна. Но Римма Васильевна пришла, как выяснилось, не только проститься (уже тогда наступило некоторое охлаждение в наших отношениях) а – с читаемым вопросом в глазах: «Не буду ли я или кто-то из «Времирей» говорить какие-то крамольные речи на похоронах?» Никто из нас не говорил никаких крамольных речей. Когда уходит человек, то ведь все в комке. Почему Маяковский ушел? Потому что любви не было, потому что друзья отвернулись, потому что какой-то вакуум творческий ощущал. Ну и тут, наверное, точно так же было. Друзья, конечно, не отвернулись – но... В книге «Пульс птицы» есть стихотворение «Письмо воскресшему другу», где я рассказал о своей мистической встречей с Сашей Поповым на Кипре. И, возвращаясь немножко назад, хочу сказать, что как-то постепенно на нас стали влиять все эти события: смерть Саши, охлаждение отношений с Риммой Васильевной. Влиять на наше публичное творчество, ни в коей мере не на творчество личное – все продолжали творить в меру отпущенных Богом сил. Но на публичные выступления – повлияло: мы меньше стали выступать. Ну а потом уже и университет закончили...
Когда Римма Васильевна стала деканом филфака, в лексиконе ее появились такие, например, фразы: «Но вы же – комсомолец?» Так она убеждала меня в чем-то. Я не знаю, возможно, для человека того времени (она определяла свое поколение: «Мы – дети ХХ-го съезда») слова «комсомолец» и «коммунист», в идеалистическом понимании, значили много. Но для меня... Я уже начал сталкиваться с ложью, с поддельным пафосом. И то, что любимый преподаватель, человек, который для меня много значил, начал меняться на глазах – это тоже было ударом. И для меня, и для других... Впрочем, позднее отношения наши с Риммой Васильевной восстановились – не только дипломатические, но и дружественные. А про те времена она как-то заметила: «Мне хотелось сохранить вас для факультета». Возможно, ее поступками правила мудрость, которой тогда я не мог понять. Однажды на какой-то скучной лекции по политэкономии мы решили: пора завязывать с этим и ехать в Москву. Сели в поезд и поехали: Асланьян, Миша Шаламов, Слава Запольских и я – четверо. Не «покорять» Москву, а просто... Нам захотелось столичного воздуха. А я еще до того, где-то курсе на первом, впервые был в Москве со своим другом – поэтом Анатолием Култышевым, чусовским тоже парнем, сейчас он живет в Москве [2]. У нас идея была: я хотел показать свои стихи Вознесенскому, а Толя – он написал нечто вроде текста рок-оперы – Градскому. Мне тогда еще 18 не было, когда произошла встреча с Вознесенским. Если вспоминать первую встречу с Андреем Андреевичем... Тогда мне, конечно, казалось: увидеться с Вознесенским – событие! Вознесенский оставил след ногтя под одной из строчек моей рукописи! Подчеркнул, очень хорошая, мол, строчка! Я потом уже в Чусовом часто брал эту страничку и смотрел на след ногтя: мэтр похвалил! Для мальчика из провинции это много значило. Потом я достаточно близко познакомился с Андреем Андреевичем, бывал у него на даче, даже биополе замерял методом биолокации. В общем, пришли мы к Вознесенскому, и тут хохма получилась. Мы идем с Толей Култышевым – а это высотный дом на Котельнической набережной, где жил Вознесенский. Там лифт был, но я первый раз в жизни лифт увидел, у себя в Чусовом привык ходить пешком. Вот я Толе и говорю: «Пошли пешком!» Мы долго-долго подымались по этим этажам, пока наконец не дошли до нужной двери. Позвонили. Нам не открыли. Голос (сейчас я понимаю – это был голос его жены Зои Богуславской): «Кто там?» Я: «Мы – ребята, с Урала приехали, стихи хотим показать Андрею Андреичу». – «А он здесь не живет!» Ну, странно. Спускаемся обратно – и вдруг на одной из площадок встречаемся с Дрожащих и Кальпиди. Мы же не договаривались, что в одну и ту же высотку, в одно и то же время прибудем! А они тоже к Вознесенскому приходили, и тоже «не застали». Это было в апреле 1976-го, я даже могу точно сказать – 14 апреля, потому что это была дата смерти Маяковского. Мы спускаемся вместе, они уходят, мы с Толиком остаемся у парадного подъезда. Стоим, разговариваем. И вдруг – Андрей Андреевич собственной персоной из подъезда выходит! Вознесенский тогда пребывал в эпицентре собственной славы, к нему многие приходили, звонили. Мы – не исключение. Ну, я его окликнул, сказал, что мы из города Чусового, «приехали к вам стихи показать». Он говорит: «Мне сейчас некогда, еду на Калининский, в кассы Аэрофлота, но – садитесь». Сели в такси. Он взял мои странички, от руки написанные, почитал. Там ему понравились строки про собаку. Собаку, которая кормит щенят: «И тут загорятся у суки сосцы, / Как лампочки на новогодней елке». Такая вот гирляндная строчка получилась. Сказал: «Сейчас в литературе нужна атомная бомба». Видимо, он вкладывал смысл: чтобы всех поразить, чтобы прорваться к читателю – «атомная бомба». Я помню, когда он вернулся из касс (а мы сидели в такси), то хитро так улыбнулся: «Ну что, атомщики?!» Это его тогдашняя лексика: атом, атомная бомба, НТР. Дрожащих тоже с ним встречался. Не помню, в этот раз или в другой. Но Слава мне рассказывал, что Вознесенский говорил ему то же самое – всё про ту же «атомную бомбу». Это была формула для всех. Во время второй поездки в Москву (когда ездили вчетвером: Асланьян, Шаламов, Запольских и я) познакомились с Петром Вегиным. Тогда уже Толик Култышев обосновался по лимиту в столице, и мы жили у него в общаге – он на стройке работал... Я позвонил Вегину и говорю, что вот «мы – ребята из Перми (уже), хотим с вами встретиться». Вегин оказался очень демократичным человеком, и я могу так сказать: знакомство и дружба с ним оказали на меня тоже существенное влияние. Вилорий Глухов, Римма Васильевна Комина, Петр Вегин – триада людей, которые мне помогли. Это была духовная поддержка. И вот Вегин... Я помню, мы встречались – Асланьян и я – с Вегиным в ЦДЛ, в буфете. Читали ему стихи. Я читал «Венчание на царство в чусовских лесах»: Вымя Похоже теперь на собор Василия Блаженного… Он восхитился: «Мы это стихотворение обязательно напечатаем!» Тогда его напечатать не удалось, это уже позднее оно появилось в пермской книжке «Прости, Леонардо!».
Потом я звонил Вегину из Чусового в Москву, читал стихи по телефону, из Перми звонили мы как-то со Славой, когда уже в «Молодой гвардии» работали. Вообще, Петр Вегин, он... Я как бы запрыгиваю вперед: когда закрутились события с «Детьми Стронция», когда в Перми собиралось специально бюро обкома партии и выносило некое подобие постановления «О литературно-художественном приложении газеты «Молодая гвардия» «Дети Стронция» – как в былые времена ждановское постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», то Вегин был одним из тех, кто очень активно вступился за нас. Он уже уехал в Штаты, когда это случилось. Его статья «Губернаторы перестройки» в тамошней газете «Панорама» – как раз об этом заседании бюро обкома. Потом он переслал нам сюда эту публикацию, и здесь она была перепечатана в газете «Зеркало». После Чусового я работал в «Молодой гвардии». «Эскизом», литературным клубом в этой газете, больше занимались Слава Дрожащих и Татьяна Черепанова. Но я помню, что мы делали что-то типа значков творческого объединения «Эскиз». По-моему, макет значка разрабатывал Слава Смирнов. Может быть, у меня даже такой значок и сохранился... Нужно было легализовать это объединение. Единственно возможная легальная форма существования «творческой молодежи» – при обкоме комсомола. Мне предложили возглавить сектор культурно- массовой работы. Когда я взошел на сей «высокий» пост (в кавычках высокий, потому что, честно говоря, недолго меня хватило на обком, полгода я выдержал, потом ушел кататься на агитпоезде), нам удалось легализовать это творческое объединение. Это уже во времена, когда возникла Народовольческая, 42. Короче говоря, обком давал возможность легального существования творцов. На «областной семинар творческой молодежи» в «Звездном» из Москвы пригласили Инфантэ Арана Франциско – экстравагантного художника испанского происхождения. Тогда же приехали Женя Бунимович, московский поэт, столичные графики Андрей Костин и Андрей Маркевич. Еще кто-то приезжал... А! Ковальджи. Или нет, они приезжали в другой раз – чуть позднее... Бунимович был старостой поэтического объединения при журнале «Юность», которым руководил Кирилл Ковальджи. С Ковальджи-то я уже был знаком. Он мне по телефону сказал: «Я могу еще пригласить Александра Еременко и Ивана Жданова». Естественно, эти имена ничего не сказали нашему слуху. Но остроухий Кальпиди сразу же пошел выискивать в библиотеке «День поэзии», где были опубликованы первые стихи Жданова и Еременко. Вспоминаю, с каким ужасом воспринимали тогдашние столпы Союза писателей и Союза художников имена: Бунимович, Ковальджи... Или паче того: Инфантэ Арана Франциско. Лев Иванович Кузьмин (он тогда был ответственным секретарем писательской организации), когда я начал ему перечислять, кто приезжает, отреагировал с непосредственностью детского писателя: «Какая-то еще инфанта?!» Всё это происходило в пионерлагере «Звездный». По-моему, всё тогда было достаточно неординарно, для Перми – так вообще. Но реакция, конечно, комсомольских деятелей, начиная с зав. отделом пропаганды или секретаря обкома – это было нечто... Мои ощущения: я в чужой шкуре, свой среди чужих, чужой среди своих. Помню, как все разбились по секциям: художники, поэты. А я должен был всё организовывать, то бишь пребывать в чужой шкуре – чувство абсолютно противное. Но те, кто приехал туда, например Андрей Костин [3], с которым мы потом подружились и он стал художником моей первой вышедшей в Москве книги «Пульс птицы» – он-то понял, что именно приходилось мне ощущать, находясь среди этой обкомовской шоблы. (Там много было всяких деятелей забавных – просто вспоминать не хочется). Вообще мои нынешние «доброжелатели», проклюнувшиеся умом позднее, да и некоторые «соратники», очевидно, еще не раз и не два будут сверлить пальцем: «А, карьеру делал! В конъюнктурщики лез, тогда как мы...» Нет ничего злобнее мира литераторов. Один мой московский приятель, поэт, бывший вор в законе, как-то сказал: «Всему хорошему я научился в воровской среде, всему отвратному – в литературном мире». Семинар прошел где-то в начале 82-го года. А потом пришел агитпоезд ЦК ВЛКСМ, меня от обкома отправили куратором по Пермской области отвечать за работу артистов и лекторов. Я подумал: чем здесь пороги обивать, лучше по стране поезжу. Ну вот, поездил – два года прожил на колесах. Агитпоезд много чего мне дал. Я увидел Россию. Мы ведь ездили: Мурманск, Архангельск, Калининград, нынешний Нижний Новгород, Екатеринбург – все области исколесили. Я увидел людей, потому что каждые двадцать дней – новый состав (я имею в виду: артисты, музыканты, ученые, лекторы). Начиная от заместителя министра обороны Павловского, заканчивая актрисой Натальей Величко (она играла в фильме «Тишина»).
VIII совещание молодых писателей – 84-й год. Вот там-то Кальпиди и Дрожащих уже непосредственно познакомились со Ждановым и Еременко. Я на этом совещании от Перми был в числе официальных участников. Дрожащих и Кальпиди приехали «нелегалами», я их познакомил с Вегиным, Вегин взял их в свой семинар. С Еременко я был знаком раньше, да и, по-моему, со Ждановым... Позвонил Еременко, сказал, что приехали такие-то поэты из Перми. Он тогда съерничал: «К зырянам Тютчев не придет!» Собрались на квартире: Еременко, Жданов, Бунимович, еще кто-то. На чьей квартире – не помню. Скорее всего, у Еременко. Зато припоминаю такой эпизод: у Вани Жданова вышла первая книжка – «Портрет» – и вот стоит бутылка водки, с одной стороны, как положено, этикетка, а с другой наклеена обложка книжки Жданова (там, где у Вани портрет и аннотация). Сия выдумка, конечно, дело рук Ерёмы. Ну вот, пьянка, чтение стихов, кто-то с кем-то танцует – там, само собой, и девушки были. Интересно, как восприняли Кальпиди: одна дама, кажется Галя Еремина, сравнила Кальпиди... – с Павкой Корчагиным. Очевидно, к этому уподоблению подтолкнули экспансивная манера Виталия, горящие глаза, резкие жесты. Этакий поэтический Павка. В общем, познакомились...
[1] Стихотворение Попова увидело свет только в 2001 году, в хрестоматии «Родное Прикамье», одним из составителей которой была Надежда Гашева. – Прим. Ю. Б., 2003 г. [2] Интервью записано в 1997 г. В мае 2001 года А. Култышев покончил с собой, выбросившись с одиннадцатого этажа. Большая подборка его стихов опубликована в книге «Дикороссы. Приют неизвестных поэтов». – Прим. Ю. Б., 2003 г. [3] Только недавно дошла до меня весть о его кончине. И для меня это – удар: всё меньше настоящих друзей! – Прим. Ю.Б., 2003 г. |
| Продoлжeниe | K Oглaвлeнию |